
Стеклянная менажерия
Кочующая менажерия снова двинулась в путь. Через три недели мы добрались до Братиславы; похоже было, что все поворачивается в лучшую сторону и что Карел начнет удачно. Все уверовали, что Братислава означает перелом.
Но тут заболели две львицы, еще два хищника перестали есть. Животные неподвижно, устремив в пространство печальный взгляд, лежали в клетках. Потом хищники начали погибать. Хищники, лошади, все животные. За короткое время зверинец лишился половины животных. Карел обошел всех братиславских ветеринаров, доехал даже до Пешта, описал там признаки болезни, но все лишь пожимали плечами. Никто не знал, почему животные погибают, и никто не мог дать совет, как их спасти. Люди ходили молча, опустив головы, шталмейстеры не высыпались, под глазами у них были круги. Когда в один из дней погибла очередная львица и вскрытие снова ни к чему не привело, Карел завернул голову мертвого животного в клеенку и отправился в Вену. Это была последняя надежда.
- Сожалею, - сказал венский доктор. - Болезнь заразная, от нее погибнут все ваши животные. Более того, зараза представляет опасность и для города. Всякий вступивший в контакт с животными рискует заразиться. Не только вы, но и все зрители. Любой, кто окажется поблизости. Простите, но я вынужден тотчас же известить соответствующие учреждения, чтобы они отдали приказ о закрытии менажерии. Кроме того, вам придется ликвидировать всех животных - больных и здоровых, всех.
Это был сап.
В Братиславу Карел вернулся как во сне. Годы каторжного труда и жертв пошли прахом. В Братиславе его встретила надпись над входом в менажерию: "ЗАКРЫТО". Ему объяснили - так сделано согласно телеграфному распоряжению из Вены.
Итак, это был конец. Люди утратили все, даже надежды. Положение было безвыходным.
Но в последнюю минуту отец собрался с духом. Им овладела неистовая одержимость, он действовал лихорадочно. Теперь я понимаю, что это была не лихорадочность, а отчаяние, и знаю также, что уныние и отчаяние - вещи весьма различные. Здесь вероятно - не вероятно, а безусловно - играло роль и чувство ответственности за всех нас, сознание того, что он не может бросить нас на произвол судьбы, что бы ни происходило, он не может снова послать нас бродяжничать, паясничать и ходить по канату, с которого голодные артисты нередко падали. Было в том и какое-то упорство, унаследованное от бродячих предков, переживавших за свою комедиантскую жизнь подобные крушения чуть ли не ежедневно и которые не могли себе позволить унывать, потому что уныние означало для них голодную смерть. И не только для них: ведь у каждого была куча детей, которых немыслимо прокормить и в тучные годы, не говоря уж о скудных и самых скудных! Только когда это у комедианта и бедного ярмарочного фигляра бывали тучные годы?
Он поехал в Пешт, добрался там до какого-то учреждения, и его неожиданно приняли. Он изложил всю историю, рассказал о новобрачном Антонине, о поездке в Вену с львиной головой, завернутой в клеенку, о двадцати братьях. Выпалил это на одном дыхании, а потом предложил свой проект. Если ему разрешат продезинфецировать клетки и всю менажерию, поставить центральную демонстрационную клетку под стеклянный колпак и две недели давать представления, он сможет спасти семью от нищеты.
Созвали докторов и ученых мужей, которых это заинтересовало скорее с профессиональной точки зрения, нежели в связи с судьбой бродячего директора и комедианта.
Но это его спасло; в конце концов отцу сказали, что при тщательной дезинфекции и герметичности стеклян-ного покрытия обществу опасность не грозит.
Отец вернулся в Братиславу. Газетчики превратили отмену запрета в небольшую сенсацию, и каждый хотел увидеть обреченных львов и тигров, каждый хотел увидеть Менелика, гигантского льва, растерзавшего Антонина. На представления хлынули толпы, народа, по воскресным дням зрители приезжали даже из Вены и Брно. По истечении срока отец ходатайствовал о следующих двух неделях и - не было бы счастья, да несчастье помогло - вновь получил разрешение.
Однако число животных таяло с каждым днем, венский доктор оказался прав. Но больных и умирающих животных никто не хотел убивать, ни у кого из людей, причастных к менажерии, не хватало на то духа. Пришлось отцу искать добровольцев, стрелявших в больных животных прямо на глазах у публики. Так погиб и Менелик. Это был единственный хищник, по поводу смерти которого никто и слезинки не проронил, - а так все ходили словно в дурном сне. Отец ни с кем не разговаривал, казалось, он тронулся в уме, а когда начиналась стрельба, бежал от фургонов и бродил вдоль Дуная; мы опасались, как бы с ним чего не случилось. Мать вообще не выходила из вагончика, конюхи затыкали уши, когда появлялся стрелок. От этой бойни щемило сердце, но она являлась единственным спасением от голода и отчаяннейшей нищеты.

В третий раз отец уже не просил о продлении срока. Однажды он приказал стрелкам ликвидировать всех оставшихся животных, здоровых и больных. Когда с этим было покончено, полицейские сожгли фургоны, брезент для шатра, клетки и все остальное до последнего каната.
От менажерии осталась груда дымящегося пепла, куски погнувшейся проволоки да раскаленные докрасна металлические прутья.
И все-таки это был не конец. Отцу не нужно было искать на пепелище обгоревшие остатки марионеток, чтобы, как встарь, двинуться с ними по деревенским храмовым праздникам. Менажерия под стеклом привлекла такое количество зрителей, что семья была спасена.
Отец немедля отправился в Ганновер, где находилась известная фабрика, изготовлявшая вагоны, и заказал там новые вагоны для диких зверей. Прямо из Ганновера он поехал в Альфельд и Гамбург. У Гагенбека, снабжавшего животными все европейские цирки и менажерии, купил в долг новых хищников. Когда по возвращении он сообщил матери, сколько должен Гагенбеку, та упала в обморок. Отец привел ее в чувство и сказал, что ровно столько же должен в Альфельде и Ганновере.

Из Братиславы мы поехали в Вену, где и состоялось наше первое выступление с новой менажерией.
У отца издавна существовал один старый и незыблемый принцип, унаследованный от нескольких поколений его предков-комедиантов: при возвращении в город, где он уже выступал, необходимо иметь новую программу или хотя бы какой-то новый номер. Отец вечно искал, выдумывал и пробовал. Для выступления в Мюнхене он приобрел морского льва, что обошлось в немало марок и немало долгов, но в Мерано нас застиг проливной дождь, морской лев простудился и подох. Виноваты были городские власти, распорядившиеся, чтобы мы расположились на лугу за городом. Луг находился в долине, кругом стеной возвышались Альпы. Когда начался дождь, мы через минуту очутились как бы на дне озера. Не мешкая, мы начали вытаскивать фургоны из грязи, нам помогал в том весь Мерано. Мы перебрались на более высокое и более сухое место, но было уже поздно; многие животные погибли от воспаления легких. Чучела самых лучших из них по сей день стоят в больцанском музее.
Дождь не дождь, отцу необходимо было иметь новинку любой ценой, и потому он направился в Париж, чтобы купить в зверинце Дореж де Роз двенадцать дрессированных волков. С ним поехал и наш дрессировщик Гауер из Мюнхена, который специализировался по львам, тиграм, леопардам и медведям. Во время представления он присмотрелся к волкам, те в свою очередь присмотрелись к Гауеру, испытание прошло неплохо, и отец купил этих строптивых волков. Приобретение казалось многообещающим, но так только казалось.
Вернувшись, они сразу же приступили к дрессировке. Гауер был неутомим, он с радостью дрессировал бы круглосуточно, даже когда хищники отдыхали, он находился где-нибудь поблизости и просто смотрел на них. Несколько дней все шло гладко, но однажды в пять часов утра нас разбудил отчаянный крик. Мы выбежали из фургонов, никто не знал, что, собственно, случилось, но вскоре кто-то крикнул, что произошло несчастье в клетке волков. Мы побежали в менажерию и увидели там омерзительное зрелище. Гауер из последних сил отбивался от двенадцати наседающих на него волков, он уже стоял на коленях, что для укротителя всегда худо - стоит упасть, и он погиб. Залитый кровью с головы до ног, Гауер все еще сопротивлялся и звал на помощь. Отец как был, в длинных кальсонах и рубашке, схватил железный прут и кинулся на волков. Те хоть и испугались белого привидения - дрессировщики тогда выступали в черно-красных костюмах, называвшихся "атила", а не в белом исподнем, - но, несмотря на испуг, Гауера не отпустили. Тогда отец убил восьмерых из них этим железным прутом, и только после этого оставшиеся четверо отбежали в угол.
Гауер был сильно изодран, кровь у него лилась ручьями. Отец отвез его в мюнхенскую больницу, где бедняга пролежал полгода, прежде чем его привели в порядок.
Похоже было, что пошла новая полоса неудач и напастей. Но нам некогда было ждать. Больного Гауера пришлось заменять другими, работы было много, и самой различной, поскольку Гауер обычно все делал сам. Вот так и случилось, что во время чистки клетки один из помощников забыл по неопытности поставить на предохранитель дверцу, и в воскресный полдень, когда менажерия была полна народу, из клетки сбежал самый большой лев.
Отец как раз находился в городе, Гауер - в больнице, никто не знал, что делать. Как уж водится в подобных случаях, поднялась паника, обслуживающий персонал с трудом удерживал прутьями льва в углу, не давая ему прыгнуть в перепуганную толпу. Весть быстро донеслась до города и настигла отца как раз в тот момент, когда он садился в фиакр. Он примчался, словно на состязаниях в римской езде, - без кучера, и увидел, что лев разгуливает возле клетки. Это был опасный лев и добром вернуться в клетку не желал. Отец приказал поставить в углу менажерии ящик, в каких торговцы перевозят животных. Это был здоровенный деревянный ящик с зарешеченными передней и задней стенками. Когда животное заберется в открытый ящик и хотя бы слегка дотронется до задней решетки, передняя мгновенно падает. Мы подвели к ящику двух молодых восьмимесячных львов, привязали их к задней стенке, огородили решеткой, чтобы лев не мог к ним приблизиться, и бросили кусок мяса. Львята принялись драться и бороться и подняли при этом такой шум, что большего нельзя было и желать. Беглец позволил себя заманить, забрался в ящик, тем дело и кончилось. Кажется все просто, да так оно и есть, только какие нервы при этом надо иметь! Прежде чем лев оказался в клетке, прошел час.
Как только он очутился там, в менажерии появилось нечто гораздо худшее, нежели самый свирепый лев: следственная комиссия, сопровождаемая вооруженными полицейскими. Нам пришлось тут же закрыть менажерию. Дело в том, что во время панического бегства Несколько человек было ранено, у некоторых женщин были даже сломаны руки или ноги - толпа сбила их с ног и пробежала по ним. Это и послужило достаточным основанием для закрытия. Когда же против нас ополчились другие увеселительные заведения, которых на этом народном гулянии было более чем достаточно, власти отобрали у нас разрешение на пребывание и приказали отцу немедленно уехать из Мюнхена. Он пытался что-то предпринять, но все было тщетно, пришлось нам убраться.
Дела обстояли неважно, поскольку мы предполагали еще какое-то время пробыть здесь и лишь на зиму уехать в Италию, чтобы уберечь экзотических животных от простуды. Кроме того, на юге менажерия могла продолжать свои представления, тогда как в Средней Европе из-за снега и морозов условия были более чем суровые.
Так как мы были иностранцами, нас выставили не только из Мюнхена, но и из страны; на оформление документов для поездки на юг времени не было, и потому менажерия отправилась обратно в Чехию, чтобы провести зиму там. То, что составляло славу менажерии - экзотические животные, - превратилось теперь в балласт.
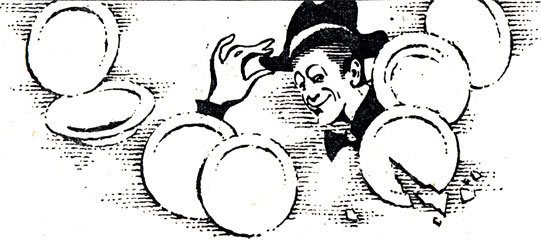
Невзирая на все неприятности, отец наскоро поставил новый номер для Праги, но это требовало денег, а влезать в долги накануне ожидающих нас зимних лишений было опасно. Поэтому он договорился со своим младшим братом Богумилом, который тем временем разъезжал с небольшой менажерией по Чехии и Моравии, и обе менажерии объединились.
Так братья приехали в Прагу, чтобы пережить там зиму 1901/02 года.
На нынешней площади Штроссмайера поставили просторный балаган и в нем разместили клетки. Через много лет один пражский историк прекрасно описал нам это в письме:
"Очень хорошо помню этот балаган в 1902 году, куда нас, учеников классической гимназии, учитель природоведения д-р Йозеф Байер отправил посмотреть австралийского муравьеда. Полотняный балаган, сплошь увешанный большими картинами с изображением сцен охоты в каких-то экзотических местах, стоял в Праге VII на том месте, где был построен костел св. Антонина, продольная ось которого параллельна Вельской улице. У входа стоял Клудский, довольно полный, в зеленом вельветовом костюме, кичащийся огромными усами, которые топорщились у него под носом, на животе вместо цепочки от часов была настоящая толстая цепь, увешанная диковинными брелоками - зубами и когтями его околевших хищников. Но Клудский не просто стоял там, он еще и звучным голосом ярмарочного зазывалы приглашал войти, весьма преувеличенно описывая чудеса своего заведения. Того, кто не мог устоять перед этим соблазном, приветствовала в кассе сильно накрашенная дама, и он, внеся свою лепту, мог войти внутрь. Там, по правую руку, находился ряд клеток, в центре которого стояла демонстрационная клетка, где пан владелец время от времени гонял своих чудищ. Из всех я запомнил только львов и тигров, прыгающих через барьеры, горящие обручи и т. д. Вход в балаган в виде повышающегося помоста, на который и с которого вели несколько ступенек, был расположен на более длинной стороне. Для мальчика картины охоты были весьма притягательны. На них негры отражали нападение нескольких львов, в полумраке джунглей гигантская змея душила туземца, на которого беспомощно взирали его перепуганные товарищи; в то время как белый нацеливал на змею ружье, тигр кидался на слона и каким-то образом там был замешан еще и крокодил. Больше в памяти ничего не сохранилось" (Письмо д-ра Ант. Новотного от 15 января 1959 г).

В будни давалось два представления, в субботу не менее четырех, а по воскресеньям даже десять или двенадцать! У отца в каждом представлении было три сложных номера. В одном он выводил группу львов, тигров и догов, в другом выступал с двумя львами, двумя тиграми, двумя белыми и двумя бурыми медведями и двумя гиенами; третий номер представлял собой комическую дрессировку медведей. Это означало тридцать шесть выступлений в неделю, каждое из которых было весьма многотрудным. Только циркач может себе представить, какое это напряжение дрессировать и удерживать в ладу и согласии группу животных, столь различных по характеру, как медведи, тигры и львы. Номер с одними тиграми более чем труден, но совместное выступление тигров и львов - тяжкий, изнурительный труд для дрессировщика и его помощника. Чтобы хоть немного понять характер тигра, человек должен изучать его не один год, а если в группе с тигром есть еще другие животные, тигр становится неуправляем и никто не знает, что он сделает в следующую секунду.
Отцу было тридцать семь лет, но в ту пору мужчины старились быстрее, а в цирке тем более, если они вообще имели возможность дожить до старости. Отец не выдержал такого напряжения, да и вряд ли кто-нибудь его выдержал бы. Он надорвался, у него открылось кровохарканье, и его отвезли в больницу. К этому добавилось еще воспаление легких, дела у него обстояли весьма неважно, мать почти не выходила из больницы, а поскольку и Гауер все еще лежал в Мюнхене, никто толком менажерией не занимался. Богумил не был дрессировщиком, представления с животными прекратились, интерес публики начал спадать.
Отец пролежал тогда в больнице восемь недель и должен был пробыть там еще какое-то время. Но сообщения из менажерии становились чем дальше, тем тревожнее, и отец из больницы сбежал. Поехал прямо к своим животным, и то, что он там увидел, чуть было не уложило его в постель вторично. Он поругался с братом, брат возражал, слово за слово, и они разошлись в сердцах. Разумеется, разделились и менажерии. С той поры Богумил ездил на свой страх и риск.
Половина животных болела из-за непроветриваемых помещений и холодных клеток, из-за тесноты и голода. Даже слониха Нелли начала прихварывать, на боку у нее образовался свищ, вызвавший полный паралич правой задней ноги. У отца было две возможности - потерять животное или прооперировать его. Доктора рекомендовали операцию, - лучше оперированный слон, чем вообще никакого, и отец согласился. Слониху оперировал профессор Декслер; описание этого лечения появилось во всех пражских газетах и попало даже в труд Брема:
"Это был нарыв в бедре, следствием чего явился паралич правой задней конечности; из свищевого канала ветеринар Декслер извлек 3 кг гноя, а животное на время операции успокоил подкожной инъекцией из 4 г морфия и такой же дозы кокаина".
Прошло три недели, Нелли снова могла ходить и работать, вернулся Гауер, хотя еще и не совсем здоровый, а там уж наступила весна. Фургоны после зимы заново выкрасили, все было готово, чтобы менажерия могла вновь отправиться в путь-дорогу.
|
ПОИСК:
|
© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, оформление, разработка ПО 2010-2019
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://istoriya-cirka.ru/ 'Istoriya-Kino.ru: История циркового искусства'
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://istoriya-cirka.ru/ 'Istoriya-Kino.ru: История циркового искусства'