
Первым делом пушки, обезьяны потом
Мы растерялись. Сразу все изменилось, все стало иным. Обычная для нас межа в поле превратилась в укрепление из колючей проволоки и приближаться к нему было опасно. Война плоха для всех, но для странствующих артистов и клоунов война означает конец света.
Прежде мы никогда особенно не интересовались тем, что делается за пределами цирка, - нас интересовало лишь то, что было непосредственно связано с нашей работой. И нам не казалось это ошибкой. Мы говорили себе, что мир приходит к нам, и мы хорошо его знаем. Мы понимали, что у всех людей, стекающихся в наш шатер, есть свои заботы и они хотят смеяться, мечтают о минутах волнения, радости, а иной раз и забвения. Знали, что зрители хотят видеть человека, преодолевающего все трудности и сумевшего совершить невозможное. И понимали, что это вселяет в них надежду.
Но внезапно этого оказалось недостаточно. В игру вступили иные, злые силы, рядом с которыми мы оказались беспомощны. Внезапно против нас встало нечто такое, с чем мы не могли справиться; мы были застигнуты врасплох.
Война - все равно что заключительная пирамида. Унтерманом (Участники акробатического номера, который в группе держит на плечах и на руках своих партнерш), на котором лежит вся тяжесть, всегда являются обычные люди.
Наша китайская труппа из семи человек отправилась на корабле в Китай, стремясь покинуть опасную зону. Корабль еще в Адриатике был торпедирован, и все до единого утонули.
Что будет дальше? Кончится ли война до будущей зимы? Наверняка кончится, верили все. В таком случае останемся пока на юге. Останемся на юге, потому что война эта не наша, а зима там, наверху, была нелегкой и в мирное время, что уж говорить теперь!
Только это была наша война. Мы говорили - нет, однако некто неизвестный судил о том иначе. Война, которую мы считали чужой, ухватилась за нас, вцепилась нам в загривок, а мы не могли сопротивляться.
Все наши мужчины были мобилизованы. Артисты, мировые номера на трамплине, монтировщики, шталмейстеры - всем пришлось пойти в армию. Войну не интересовал их трамплин, ей хватало их здоровых ног и рук. Трамплин пылился в самом дальнем вагоне.
Мы трое, то есть отец и два брата, избежали синего мундира. Отец был уже в летах, а вечные странствования да бродяжничание наложили на него свой отпечаток. Его признали негодным. Я из-за своей изнурительной работы со слонами был настолько истощен, что мне даже не пришлось особенно стараться, и комиссия признала меня негодным вследствие физической слабости. Зато коренастый Рудольф вынужден был сменить черно-красную атилу на синий австрийский мундир. Не помогли ни шрамы, ни раны - последствия драки, которую учинили львы незадолго до того в Флоридсдорфе. Он был мобилизован, и мы с ним простились. Рудольф прямым путем поехал в Прагу. Когда я говорю "прямым путем", это нужно принимать с оговоркой. Прямой путь из Риеки в Прагу длился целых четыре дня.
В цирке остались лишь мы с отцом, наш старый дядя Йозеф да несколько пятнадцатилетних парней. Мы поделили между собой уход за животными, которых по - прежнему нужно было обучать, чтобы они не забыли свои номера, а мы сумели бы просуществовать.
На моем попечении оказалось сто лошадей, семь слонов, двенадцать верблюдов и лам и десять зебр. Каждый день мне нужно было тренировать их, чтоб они были в форме и номера не страдали. Если вечером что-то не ладилось, то после последнего номера я вновь брал их на манеж и дрессировал до тех пор, пока все не шло без сучка и задоринки. Только так можно было работать.
К счастью, Рудольф оставался в Праге не долго. В один прекрасный день, когда вместо завтрака солдатам выдали сто. раз "nieder" (Лечь (нем.)) и сто "auf" (Встать (нем.)), Рудольф встал лишь девяносто девять раз, потому что на сотый потерял сознание. Очнулся он в госпитале и через несколько дней военные чины сообщили ему, что он "untauglich" (Негоден (нем.)).
Быть призванным на военную службу весьма просто, все идет как по маслу. С возвращением в гражданскую жизнь дело обстояло хуже. Чтобы получить последний увольнительный документ, Рудольфу пришлось ехать за своим одиннадцатым пехотным полком до самой Венгрии, в город Дюла. Там как раз состоялось открытие представлений цирка Кёнёт, а директор Шандор Кёнёт был нашим добрым знакомым. Встретив Рудольфа, он не хотел его отпускать, ибо столкнулся с теми же проблемами, что и мы. У него тоже осталось всего лишь несколько стариков да парней.
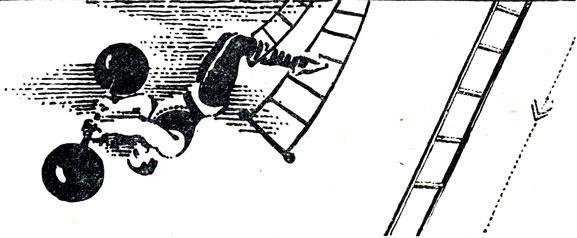
Однако письма, получаемые Рудольфом из Риеки, были чем дальше, тем отчаяннее. Что поделать, Рудольф дождался своих увольнительных документов, простился с Кёнётом и отправился в Риеку.
Мы встретили его с распростертыми объятиями. За время его отсутствия умер дядя Йозеф. Он был старый человек, тридцать лет ездил с менажерией по Европе, в основном по Италии. Пришел он к нам в тринадцатом году уже больным.
Вечерних представлений становилось все меньше, потому что мы не могли выпустить из клеток истощенных и свирепых от голода хищников. Входить к ним было рискованно. Голодные слоны несколько раз разрушали конюшни. Жираф настолько ослабел, что не мог двигаться и в один из дней умер так тихо, словно уснул. За ним погиб бегемот. От туши остался лишь длинный скелет, обтянутый грязно-серой кожей с причудливыми складками, рытвинами и морщинами. Он походил на старый соломенный тюфяк, из которого кто-то вытряс всю солому. Голодные животные делали немыслимые и отчаянные попытки добраться до еды. Поскольку за ними ухаживали неопытные парни или ослабшие старики, несколько хищников сбежало из клеток, и мы не смогли их поймать; пришлось солдатам пристрелить их. Потом погиб шимпанзе, существо изнеженное и особенно чувствительное к недостатку еды, холоду и плохому уходу.

В эту пору вернулся Рудольф. Он не узнавал животных и даже свою любимицу тигрицу Альжбету, чуявшую его на расстоянии трехсот метров через закрытую дверь. Вместо животных он увидел беспокойных и страшных призраков с отчаянными и голодными глазами. Мой Бэби, самый большой из слонов, давно уже не весил свои 6600 килограммов, и было опасно к нему приближаться. Пришлось спутать его цепями.
В Риеке нужда дошла уже до такой степени, что нам грозил голод. Отец предложил поехать в Триест, прежде землю обетованную для цирков. Мы долго судили и рядили как быть. Триест пугал нас осенними бурями, однажды уже лишившими нас шатра. И если в Риеке голод, почему бы ему не быть и в Триесте? Трудно было принять решение! Оставаться мы не могли, а двинуться на север в холод и голод казалось безумием.
Кто-то, уж не помню кто, предложил со всем, что у нас осталось, поехать на зиму в Италию. Переждать там войну, а весной будет видно. До того времени война наверняка окончится. Италия тогда была еще нейтральной, а это означало, что там нет голода, есть еда для всех, для лошадей и для тигров, для львов и медведей, а быть может, и нам перепадет что-то.
Отец согласился, но знал, что на получение всех необходимых документов уйдет не одна неделя, а за это время мы можем протянуть ноги от голода. Поэтому мы договорились попытать сперва счастья в Триесте, только в зимнем помещении, потому что шапито не выдержало бы осенних норд-остов, так называемых бора. Рудольф должен был ехать за зимним строением в Винер - Нёйштадт, я - переправить цирк в Триест, а отец собрался направиться в Рим за разрешением.
Назавтра оба уехали, и я остался с голодным цирком один.
После отчаянных поисков мы приспособили десять железнодорожных вагонов и доставили цирк в Триест. Это недалеко от Риеки. Через две недели приехал Рудольф с зимним зданием, и еще две недели ушло на то, чтобы его поставить, поскольку наших монтировщиков давно уж разбросало по разным подразделениям и фронтам Европы и нам пришлось нанимать местных жителей. Наконец вернулся отец, но не с добрыми вестями. Разрешение он получил, однако Италия была настроена против всего, идущего с той стороны Альп. В посольстве в Риме ему сказали, что Италия, по всей вероятности, вступит в войну. Это означало, что мы могли потерять все до последнего колышка, до последнего шеста.
Но лучше было поставить на карту все свое будущее, нежели обречь себя на голодную смерть. Мы совершали дальние поездки по окрестностям Триеста и добывали где что удастся. Это были жалкие крохи. Армия поглощала все: рис, просо, солому, сено, овес, отруби, кукурузу, мясо, молоко, хлеб. Раздобыть тюк соломы означало подвергнуть себя риску быть объявленным государственным изменником, обворовывающим армию в самое тяжелое время.
Шел октябрь первого года мировой войны. Двадцать первого мы получили сообщение, что в Паражнице убит наш третий брат Индржих. Кажется, я до сих пор о нем еще не говорил. У Индржиха жизнь не сложилась - у кого она тогда складывалась? Его с детства манила трапеция, но дважды за короткое время он неудачно падал и ломал ногу. Первый раз это был простой перелом, другой раз тройной. Он озлобился, страдал, сделался отшельником. Когда нога зажила, он заболел скарлатиной, а поправившись, сказал во время ссоры какую-то дерзость матери, слово за слово, и Индржих ушел. Он попал аж в Африку и там совершил самую большую ошибку, какую только мог совершить: вступил в иностранный легион. Когда понял, что это такое, бежал. Весной 1914 года он приехал к нам в Вену, прошел по менажерии и долго смотрел, как тренируются артисты. Чуть не расплакался. Возвращаться в легион он ни за что на свете не хотел, но и с нами остаться не мог. Мы не знали, куда он ушел, и уже никогда его больше не видели. Следующее и последнее известие о нем мы получили из Сербии. Нам сообщили, что Индржих пал смертью храбрых на поле брани. В то время так говорилось. Храбрость для людей цирка - волшебное заклинание, но речь идет не о такой храбрости.
Мы не ожидали от Триеста многого, но не сбылось и малое. Точнее говоря, вообще ничего не сбылось.
Все артисты разошлись, остались только артистки, а одни они могли выступать лишь в импровизированных номерах отнюдь не высокого уровня. Время от времени люди начинали косо поглядывать друг на друга. Женщины из семьи австрийского дрессировщика не разговаривали с женщинами итальянских клоунов и все делали им назло. Мир становился все сложнее. Была у нас артистка, у которой было двое сыновей от первого брака и двое от второго. Первый муж был немец, а второй француз, выступавший с художественным свистом, так что сыновья от первого брака считались немцами, а два их брата французами. Они не понимали, почему вдруг должны люто возненавидеть друг друга и почему в течение одной ночи должны стать врагами не на жизнь, а на смерть - ведь они вместе работали на трапеции и знали, что могут положиться один на другого больше, чем на самого себя. Немцев призвали на военную службу, а французам пришлось бежать, поскольку ни тем, ни другим ничего иного не оставалось. Позже говорили, что они встретились где-то на фронте.
Если выступление истощенных артисток никуда не годилось, то хотя бы дрессура животных была хороша. Однако выступать с хищниками мы могли лишь в том случае, если было чем их накормить, иначе мы не имели права выпускать их на манеж. В довершение ко всему и зимнее строение не устояло перед бора и его постигла та же участь, что некогда летний шатер. Теперь уже ждать нам было нечего, и мы решили двинуться в Италию.
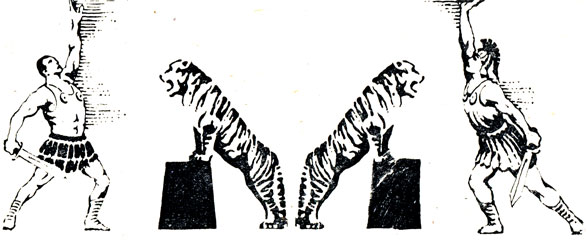
Мы извлекли из-под обломков какие-то части постройки и привели их в порядок, чтобы можно было соорудить из них новое здание, чуть поменьше. Погрузили все в фургоны и направились к границе. Нам пришлось оставить в Триесте двадцать пять полностью груженых вагонов, как мы полагали, ненадолго - сразу после войны мы за ними вернемся. А сколько еще про-длится война?
Мы отправились в Италию.
В цирковом раю якобы говорят по-итальянски. Нам тогда очень хотелось, чтобы это было так. И впрямь, мы очутились словно в ином мире, в мире, где нет голода и нищеты. Только это было слишком неправдоподобно, чтобы могло длиться долго.
Начало напоминало "Видение Иржика" (Пьеса-сказка чешског классика А. Ирасека). Пограничники махали нам шапками, мы пребывали в таком восторге, что на первом же вокзале так рьяно выпивали в честь этого вместе с итальянскими железнодорожниками, что ни дежурный по станции, ни стрелочники не могли удержать в руках флажок и пришлось нам самим подавать сигнал к отправлению. Люди кричали "Eviva!" (Да здравствует, ура (итал.)), всюду синь и тепло, билеты на первое представление были распроданы, на второе и третье тоже, животным хватало еды, и они быстро набирали жирок вокруг ребер.
Но от войны не убежишь. Политическая ситуация ухудшалась с каждым днем. Проклятая политическая ситуация! Между Австро-Венгрией и Италией начались трения. Наш цирк был чешским, но Чехия являлась частью Австро-Венгрии. Исподволь, весьма исподволь официальные учреждения давали нам понять, что нам тут делать нечего.
Весной 1915 года мы расположились в Падуе близ собора. Как мне понравилась Падуя? Я знаю о ней только то, что жандармы отвели нас там в префектуру, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали нас со всех сторон, словно преступников. Тут уж мы поняли, что дело плохо и пора возвращаться назад.

Из префектуры отец направился прямо на вокзал и попросил вагоны до Инсбрука. Начальник созвал всех железнодорожников, чтобы отец повторил это в их присутствии еще раз. Поначалу они сочли это удачной шуткой, но потом убедились, что это всерьез. Сказали, что ни один итальянский железнодорожный вагон не имеет права пересечь границу. Ситуация была трудной. Мы телеграфировали в австрийское посольство в Риме, чтобы нам раздобыли вагоны, но ответа не получили. Отец ждал день, два, три, потом приказал немедленно разбирать цирковое здание и уехал в Рим.
Нам тем временем следовало перебраться в Верону. Прошла неделя, прежде чем он добился разрешения. Приехал как раз в тот момент, когда мы закончили натягивать тент. Не желая ничего ни видеть, ни слышать, он сказал, чтобы мы немедля собирались, потому что будет война. Мы стали упаковываться. Когда первые фургоны добрались до вокзала, было уже поздно. Пути оказались забиты воинскими эшелонами, и нам заявили: "Первым делом пушки, обезьяны потом".
Через три дня мы втиснулись между двумя эшелонами и поехали дальше. Это было ужасно, три тяжких дня, а ночи - еще хуже. Никто из нас не знал, что будет, куда мы едем и доедем ли вообще.
После недельной тряски в поезде, проверок и контроле нам все стало ясно.
Мы приехали в Инсбрук, и отец побежал к бургомистру за разрешением.
- В Инсбрук, да еще с цирком? - сказал тот удивленно. - Вы с ума сошли! Исключено!
У отца сдали нервы, а это для артиста роковое обстоятельство. Он брякнул, чтобы тот подумал хотя бы о четырех сотнях животных, раз уж ему безразличны пятнадцать человек.
- Что-о? - сказал бургомистр. - Четыреста животных? Когда нам самим нечего есть? Езжайте куда угодно, но здесь вам нельзя задержаться даже на сутки.
Мы снова тряслись в поезде между эшелонами и товарными составами, ехавшими из ниоткуда в никуда, между поездами с калеками, беженцами и солдатами, направляющимися на фронт. Ночевали мы на маленьких станциях, и мимо нас проходили эшелоны. Солдаты пели в кромешной тьме, освещаемой искрами, а животные в вагонах ревели от голода. Итак, это была война. Они оказались правы : это была наша война, уже давно это была наша война.
Мы хотели ее пережить.
Отец обратился к начальству Тирольской области и получил разрешение выступать в деревнях и провинциальных городах. Мы двинулись в Халль опять в сторону Инсбрука. Мы не имели права находиться там долее трех дней, включая установку и разборку цирка. Не густо, но хоть что-то. В самом худшем случае была надежда, что мы не умрем с голоду.
Итальянские монтировщики остались в Италии, а наши мужчины находились на фронте, поэтому цирк нам возводили халльские дети - за контрамарки. Ничего иного мы им дать не могли, потому что ничего иного у нас не было.
Назавтра начался переполох.
В газетах сразу после сообщений с театра войны появились большие заголовки:
"NIEMAND GEHE IN DEN OSTERREICH FEINDLICH GESINNTEN ZIRKUS!"
"Пусть никто не ходит во враждебно настроенный цирк!" А ниже объяснение: "Оскорбительными и позорными надписями на цирковых фургонах директор цирка показывает свое отношение к трудной борьбе наших народов".
Мы пошли взглянуть, какими такими надписями мы показываем свое отношение "к трудной борьбе наших народов". На фургонах красной и синей краской было написано:
"BASSO LA AUSTRIA!"
"Долой Австрию!"
"Basse la Austria" почти что означало "Basso Клудский". Мы вывезли эту надпись из Италии, и нам стоило величайших усилий убедить официальные учреждения, что это написали не мы. Наконец нас все же помиловали, газеты сообщили, что это оказалось очередным подлым выступлением итальянских шовинистов, но нам уже ничто не помогло. Niemand gehe in den Osterreich feindlich gesinnten Zirkus! В ту пору газетным заголовкам придавалось большое значение, а этот был даже излишне красноречив. Никто уже не ходил во вражески настроенный цирк. Более того: никто нам ничего не продавал.
По-хорошему, против воли, из-под полы, с официальными печатями, со справкой, без справки.
- Есть у вас мясо?
- У нас вообще ничего нет.
- Хоть обрезки, кости...
- Кости мы продали. Ничего нет. Приходите через неделю.
Через неделю!
- Прошу вас, хоть немного молока или пахты...
- Молоко? У нас его даже для собственных детей нет.
- Хлеба?
- Хлеба нет.
- Рыбы?
- Рыбы мы уже два месяца не видели.
Хуже всего было то, что они говорили правду. У них ничего не было. Вообще ничего. Если все же где-то в деревне мы обнаруживали хоть немного соломы или сена, нам боялись продавать из-под полы. Посылали за ордером. Отец шел за ордером, мы получали по одному ордеру в неделю на человека. Он спросил чиновника:
- А как быть с четырьмястами животных?
Чиновник пожал плечами.
- Об ордерах на животных в инструкциях не сказано.
Если для людей было мало, для животных не было ничего и даже меньше чем ничего. Нам приходилось следить за тем, чтобы их у нас не съели.
Стоило на минуту отвернуться, и хантерский жеребец превращался в гуляш.

Животные снова начали быстро худеть и чахнуть. Итальянские тучные годы давно уже ушли в прошлое, словно их и не бывало. У нас оставалось примерно две трети животных по сравнению с тем, что мы привезли из Италии, - около ста лошадей, шесть слонов и сто пятьдесят прочих животных, и им нужно было сено и солома. Это означало, что ежедневно необходимо было раздобыть более тонны сена и тонны соломы, что составляло два довольно значительных стога. За обыкновенную затхлую солому расплачивались драгоценными камнями, потому что она принадлежала войску и ее нельзя было достать иначе как из-под полы.
В Инсбруке мать впервые посягнула на неприкосновенный запас. Это был ящичек с золотыми дукатами, откладывавшимися в течение долгих лет на самые черные дни. Эти дни наступили, мы дошли до последней точки. В течение трех месяцев золотые дукаты превратились как в сказке - в солому и сено. Мы остались ни с чем. Не проходило дня, чтобы не погибало какое-нибудь животное, утром мы вставали со страхом, какой еще сюрприз нас ожидает. Немыслимо себе представить, что значит для работающих в цирке смотреть на лошадь, которая знает английскую, французскую и испанскую школы, и при том едва стоит на ногах, дрожит от голода и слабости, а ребра у нее выпирают так, что чудом не прорывают кожу.
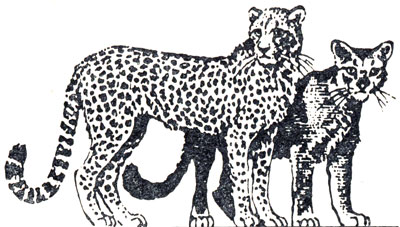
Чтобы сохранить хотя бы самые лучшие номера с хищниками, приходилось убивать лошадей. Одну за другой, от истощенных рабочих лошадей и ломовых меринов до вороных, знающих высшую школу верховой езды, белоснежных и в яблоках, бархатисто-белых, чья шерсть некогда блестела, будто покрытая глазурью, и которых мы берегли как зеницу ока. Что ни лошадь, то воспоминание, недели и месяцы каторжного труда, частица собственной жизни. Теперь мы лишь тупо смотрели, как их ведут на убой. Изо дня в день мы прощались с ними, и это напоминало похороны, словно каждый день мы хоронили кусок собственного сердца. После лошадей наступил черед шестнадцати дрессированных верблюдов - три года работы, затем буйволов; даже кенгуру пал жертвой всеобщего голода. Затем погиб жираф. Все лошадиное мясо доставалось хищникам. В цирке никто не может притронуться к конскому мясу даже под угрозой голодной смерти.
Мы дрессировали и убивали, убивали и дрессировали. Это походило на дурной сон. Когда мы не дрессировали и не убивали, я стоял где-нибудь за конюшнями и смотрел, как офицеры гоняли на учебном плацу солдат. Мы обычно располагались близ плаца или прямо на нем. Тяжелое это было зрелище. Если б кто-нибудь из нас так обращался с тиграми или львами, они тут же растерзали бы его на куски. То, что делали некоторые офицеры с людьми, не мог себе позволить ни один дрессировщик в мире. Глядя на это, я понял, что война - величайшая бессмыслица на земле.
Каждый день заседал семейный совет и решал, какое животное пойдет на убой. Эти мучительные минуты часто были наполнены ссорами, гневом и отчаянием. Мы были бессильны что-либо сделать. Ходили на бойню и проводили долгие часы в ожидании мясных отбросов и костей. Но и кости были нужны людям - хоть похлебку сварить. Для нас годились и белые вываренные кости. Мы вываривали их по третьему и по пятому разу, а потом уж они доставались хищникам.
Когда однажды после нескольких дней тряски по путям и дорогам мы открыли клетку с хищниками, то вместо двадцати одного льва и тигра обнаружили всего шестнадцать животных. Остальные пятеро исчезли. В первые минуты мы решили, что тигры по дороге сбежали - об этом жутко было подумать, - но потом выяснилось, что от них сохранилась всего лишь горстка жалких останков в углу клетки. Хищники слизали даже кровь с пола.
Ночью мы просыпались от жалобного рева и воя голодных животных. В конюшнях звенели цепи, при малейшем тревожном звуке мы готовы были вскочить и мчаться во тьму и холод.
Наиболее интересных животных мы оставляли под конец. Шесть своих слонов мне удалось долго оберегать от беды не только потому, что мы за них даже еще не расплатились, но и потому, что я спал возле них с заряженным пистолетом и никого к ним не подпускал. Потом я простудился, ночуя на голом полу конюшни, пришлось переселиться в фургон. И тем не менее я десять раз за ночь выбегал в конюшню посмотреть, живы ли они еще.
Они начинали впадать в буйство, а буйный слон опасное животное. Из-за каждого клочка сена или соломы они затевали между собой жестокие ссоры, пришлось нам в конце концов на время кормления отделять их и держать в цепях. Тот, кто быстрее разделывался со своей горсткой затхлой соломы, с ненавистью смотрел на более удачливого приятеля и злобно бряцал цепями.
Потом уж я не мог защитить их даже с помощью заряженного пистолета, ибо пистолет против голода еще не изобретен. Первым умер самый слабый слон, вскоре другой. Просто уснул в конюшне, упал, тяжело поранился и умер. Однажды ночью один из слонов сорвался с цепей и напал на своего соседа. Через три дня раненый слон погиб. Голод одолел и Мутти, старую слониху, одного из моих самых любимых слонов вообще. Пожалуй, я не встречал более понятливого и доброго слона - красивое и послушное животное. Мы уже давно не демонстрировали ее знаменитый трюк, когда она сама выбирала себе по меню ужин. Бедняжка Мутти!
Последним оставался Бэби, потому что он был самый большой и самый сильный. До войны он весил 6600 килограммов, к концу войны от него остался один скелет. Весил он неполных три тысячи килограммов, то есть потерял более трех тонн.
Животные были уже настолько слабы, что мы не могли их демонстрировать. Пришлось прекратить дрессировку. Животные вышли из повиновения, отказывались выполнять простейшее задание. Нельзя было впускать их в общую клетку, они мгновенно подрались бы в кровь. Время от времени мы пытались составлять безопасные номера, но их уровень был невысок. Несчастные животные плелись по манежу, ни к чему не проявляя интереса.
С хищниками вообще ничего нельзя было делать, а если мы иной раз и пытались, то ценой невообразимого нервного напряжения, которое трудно себе представить. Войти в клетку к хищникам, которые не ели несколько дней, было смертельно опасно.
В конце концов мы лишь демонстрировали животных в клетках. Война вернула нас во времена старых зверинцев и бродячих менажерий.
Как-то мы направились из Эккенбурга в Тульн в Нижней Австрии. По дороге погибло еще несколько львов, остальные их разорвали. По приезде мы валились с ног от усталости и голода. От переутомления трудно было заснуть. Мы слышали рев зверей, но не было сил встать, нас охватило безнадежное отчаяние.
Вдруг мы услышали, что кто-то бежит в темноте к нашему вагончику; забарабанили в дверь и звали на помощь: в конюшнях произошло несчастье. Мы выбежали в ненастную осеннюю ночь и помчались к конюшне. Бэби и оставшиеся лошади содержались в общем помещении.
Упавший брезент швыряло из стороны в сторону, а под ним раздавалось отчаянное ржание лошадей и трубный рев слона. Наконец нам удалось их высвободить из-под брезента. Нашему взору предстало такое зрелище, что не дай бог еще увидеть подобное.
Слоны возненавидели лошадей за то, что вынуждены были делить с ними сено. Обычно слону требуется в день полцентнера сена, три ведра овса с отрубями, морковь, свекла и рис. Теперь они получали горсть сена или соломы, а иной раз и того не было.

В ту ночь Бэби сорвался с цепей, вломился к лошадям, начал их топтать, вонзая свои клыки в их животы и бока. Это были последние, а стало быть, наиболее ценные, наиболее красивые лошади. Отец хотел привязать Бэби, но никто не рискнул к нему приблизиться, он трубил и топтал истекающих кровью лошадей. Только я смог его успокоить - ко мне он привык, и тогда удалось его вновь привязать. Десять лошадей были тяжело ранены, некоторые не дожили до утра, раны от слоновьих клыков были тяжелые и глубокие. В ту ночь в конюшне не было ни единого конюха; все еще с вечера ушли в тульнский бордель. Это тоже была война.
Тут же ночью мы побежали за доктором, но тот не пожелал ради лошадей вставать с постели. Пришел лишь утром, прооперировал раненых жеребцов и кобыл и зашил их ужасающие раны. Отец плакал, мать плакала, мы просто не знали, что делать. Некоторые, как раз самые лучшие лошади, заболели столбняком. Через несколько дней они умерли. Остальных мы лечили из последних сил. Отец ходил между фургонами с покрасневшими глазами. Это были единственные дни в жизни, когда он относился к нам почти с нежностью.
К зиме 1916/17 года из четырехсот животных у нас осталось всего восемнадцать: Бэби, зеброид, два верблюда, один тигр и одна тигрица, четыре бурых медведя, семь лошадей и обезьяна Реджи; медведи выжили как наиболее выносливые, а также потому, что хищники не ели их мяса.
По крайней мере, так утверждал отец, но, скорее всего, он помнил о цирковом правиле - медведь и обезьяна должны остаться напоследок, если станет уж совсем худо. С ними всегда можно все начать сначала, когда только и останется взять в руки посох да цепь и двинуться в путь.
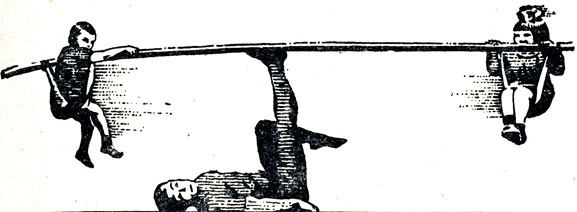
Зима для цирка всегда трудна, даже в мирное время, но эта последняя военная была сущим адом. К ее началу мы были уже разорены, у нас не осталось ни сбережений, ни животных. Рудольф говорил, что родители были настолько подавлены, что подумывали о совместном самоубийстве. Не знаю. В такие минуты можно пойти на все.
Мы находились тогда в Корнойбурге возле Вены, и, поскольку у нас на зиму не было ни гроша, отец продал осветительную установку; однако через месяц деньги кончились, и нам пришлось продавать другие вещи. Так в голоде и страшной нужде мы перебивались вплоть до 1917 года, уповая, как и все, что это будет последний военный и первый мирный год. Мы снова взялись за дрессировку. Брат обучал шесть гусей, из них к концу дрессировки не осталось ни одного, а из шести поросят - один, и четырех медведей, которые были уже слишком стары и не годились ни на убой, ни для дрессировки. Кроме этого номера, на который трудно было рассчитывать, он муштровал обезьяну Реджи на летающей трапеции. Я дрессировал Бэби вместе с парой лошадей. В ту зиму мы с Бэби особенно привязались, друг к другу.
Медведи брата доставляли нам бездну хлопот. Когда весной семнадцатого года мы находились в Биджове, отец, брат и я отправились на конный рынок, который в ту пору был на каждой ярмарке. Мы осмотрели отощавших лошадей, зрелище было не из веселых. Брат не выдержал и быстро ушел обратно в цирк. По дороге на последние деньги он купил на ярмарке охотничий нож - таков был его характер: понравится вещь - нужна не нужна, все равно купит.
Однако оказалось, что это были не выброшенные деньги, а стоящая покупка, спасшая ему жизнь. Подходя с охотничьим ножом к цирку, он уже издали услышал крик и призыв о помощи. Он бросился бежать и, запыхавшись, подбежал к медвежьей клетке. Сторож Прайс, который тогда ухаживал за медведями, стоял на коленях, а медведи буквально рвали из него куски мяса. Сторож уже настолько ослаб от ужаса и потери крови, что не мог встать, но в подсознании его еще жила мысль, что ему любой ценой надо удержаться и не упасть, и все более и более слабеющим голосом он звал на помощь. Рудольф прыгнул в гущу медведей. Это было безрассудно, потому что в такой момент животные ничего не слышат и не видят и очертя голову кидаются на все живое, что окажется поблизости. Дрессировщики называют это "блютрауш" (Жажда крови (нем.)) или "зеленые глаза", потому что у хищников в момент убийства глаза горят зеленым огнем. Рудольф как дрессировщик все это знал, но в подобных случаях выбирать не приходится. Прайс уже потерял сознание. Медведи кинулись на новую жертву, но Рудольф прижался спиной к решетке и принял бой. Он длился почти час, и под конец медведи и люди настолько ослабели от усталости и потери крови, что отползли каждый в свой угол, где мы и нашли их. Вытащили Прайса и Рудольфа из луж крови и вынесли из клетки.
Раны Рудольфа оказались не так страшны, как это выглядело на первый взгляд, но Прайс пролежал в больнице больше года и вышел оттуда беспомощным калекой.
Мы начали новую дрессуру. Я бился в основном над высшей школой верховой езды, а кроме лошадей дрессировал для совместного номера слона, верблюда, зеброида и двух пони. Брат помогал мне с лошадьми, ездил в качестве жокея с артисткой Густой, на которой позже женился, как уж то повелось в цирках. В паузах мы быстро сбрасывали фрак или трико, надевали брюки с широкими штанинами, рисовали на своем лице улыбку и изображали клоунов или наблюдали за порядком в менажерии во время осмотра животных. Наибольший интерес вызывал Бэби, хотя он уже давно превратился в скелет, обтянутый морщинистой кожей.
Трудно себе представить, каких волевых усилий это требует - прыгнуть десять раз за одно представление или пятьдесят раз в день с точностью до единого сантиметра на бегущую рысью лошадь, когда у тебя перед глазами от слабости идут круги. Или просто стоять с шамбарьером посреди круга и заставлять лошадь делать ра de dans (Танцевальные па (франц.)), если у человека и у животного ноги подкашиваются и они еле стоят.
В это время отец купил на последние деньги двадцать змей. Когда мы его спросили, зачем он это сделал, он объяснил, что змеи могут не есть по три месяца и, стало быть, их легко прокормить. Хоть это и правда, однако экзотическая змея требует гораздо более тщательного ухода, нежели обезьяна или даже медведь. Минимум раз в неделю она должна принимать ванну, в ее помещении все время необходимо поддерживать равномерную температуру без заметных колебаний и абсолютную чистоту. Действительно, змеи не нуждались в пище, зато почти все они перемерзли, а с ними погибли и другие животные - от холода, голода, туберкулеза.
Весной мы ездили по Моравии. Золотая Моравия! Распроданные билеты в шапито приносили, правда, весьма скромный доход, поскольку шатер был маленький, но мы и животные хотя бы время от времени могли поесть, пусть даже не досыта.
Прошел июнь, июль и август, все ждали, когда же придет конец войне.
Услышали мы об этом в Богумине, как раз в тот момент, когда неподалеку от вокзала забивали колья, чтобы поставить шатер.
Мы смотрели, как солдаты возвращались с фронта. Вокзал снова был забит эшелонами, как в свое время в Вероне, когда война началась. Но на сей раз это никого не волновало - ведь в эшелонах были не пушки, а лишь отцы, возвращающиеся домой, к семьям.
А такие эшелоны самые прекрасные.
Война кончилась, впереди был мир и новая тяжелая работа, но мы все радовались этой работе, мы ждали ее четыре долгих года.
|
ПОИСК:
|
© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, оформление, разработка ПО 2010-2019
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://istoriya-cirka.ru/ 'Istoriya-Kino.ru: История циркового искусства'
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://istoriya-cirka.ru/ 'Istoriya-Kino.ru: История циркового искусства'